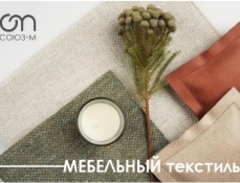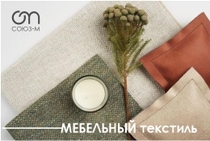Русская природа (имеется в виду средняя полоса европейской части России, где сформировалась русская культура) скромна и не отличается драматизмом. Здесь нет ни гор, ни морей, ни грандиозных водопадов, ни бескрайних пустынь. Что мы видим вокруг себя? Леса, поля, пологие холмы, которые часто и холмами назвать трудно, реки, нередко больше похожие на ручьи, озера и болота. Среди всего этого на немалом расстоянии друг от друга разбросаны деревни, села, малые и большие города.
Обычно они, в отличие от городов Западной Европы, даже если существуют несколько веков, не могут похвалиться разумно сложившейся и сохраненной городской тканью. Это хаотически развивающиеся случайные поселения, и Москва, главный город России, где живет почти 10% населения страны, тому пример. В Москве есть островки красоты, но по преимуществу это никакой город, застроенный прямоугольными коробками для коллективного жилья, нелепыми торговыми и деловыми центрами и абсолютно неуместными в среднерусском ландшафте небоскребами.
Что же может сделать художник, задавшийся целью рассказать о русском пейзаже? Задача у него трудная. Хотя в России было несколько замечательных пейзажистов и ведутистов (Иванов, рисовавший виды Римской Кампаньи, Левитан, Васильев, Леонидов, Нисский – художники мирового масштаба), но пейзажная школа здесь, в отличие от Франции, Германии, Италии и Нидерландов так и не сложилась. Почему? Конечно, Брейгелю и Гоббеме, Джованни Беллини и Пиранезе, Альтдорферу и Фридриху, Пуссену и Сезанну не надо было ничего придумывать или пытаться разглядеть в окружающем их пейзаже то, чего нет. Ведь даже в те давние времена от голландского болота до Альп и венецианской лагуны психологически было ближе, чем сейчас, в самолетно-виртуальную эпоху, от Южного Бутова до верховий Дуная.
Но всматриваться в колебания горизонта вокруг себя, в кустики, в щербины кирпичной кладки и смотреть, как плывут облака над обезглавленными московскими тополями, все равно необходимо. Это, видимо, можно сделать двумя способами.
Первый, который выбрал Борис Матросов, это максимально приблизиться к тому, что он стремится изобразить: сдернуть с носа очки для чтения, потерять ориентацию в пространстве и стукнуться лбом о цементную стену русского пейзажа.
Второй, которым рискует Никита Алексеев, – это оптически удалиться от пейзажа России, посмотреть на него с высоты, где разницы между Южным Бутовым и Альпами нет. Эта дальнозоркость неизбежно обернется ловлею мыши, ее бегством и дальнейшим скитанием по воздушным потокам.
Но на риск идти приходится. Иначе пейзажная живопись в России так и может остаться служанкой анекдотически-сюжетного искусства, предоставляющего тем, кто желает, возможность заниматься караоке среди берез и бетонных заборов.